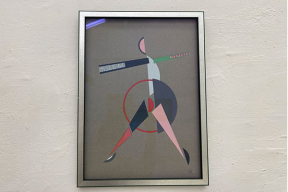Несмотря на безумность выбранных для их достижения методов, сами внешнеполитические устремления России выглядят сегодня скорее рациональными, чем иррациональными.
«Путин не стремится к войне с Европой, но не остановится перед ней, если будет необходимо для выживания режима»
Профессор Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов – о выборе долгосрочной стратегии для Европы.
– К чему стремится Путин? Как ни странно, этот вопрос остается актуальным через три года после начала войны, которую он никак не хочет прекращать даже на весьма выгодных для себя условиях, – пишет Пастухов. – На первый взгляд, действия Путина выглядят иррациональными.
Он отверг щедрое предложение Трампа, фактически предоставляющее ему индульгенцию за агрессию против Украины, и при этом позволяющее частично легализовать аннексию незаконно оккупированных территорий, потребовав передачи ему дополнительно еще незавоеванного клочка донбасской земли размером в несколько десятков километров.
В чем здесь фишка? Сомневаюсь, что только в стратегическом значении этой территории. Путину нужен «символ победы», своего рода «скальп», который дикари с радостным криком снимают с поверженного врага. Захват этих территорий является не более чем «сертификатом», подтверждающим для Путина достижение какой-то иной, не лежащей на поверхности цели. Какой?
Понять сегодняшние действия Путина можно, лишь уложив их в контекст общих, стратегических целей этой войны не только для него лично, но через него и для России.

Как это ни покажется странным, но до сих пор точного понимания этих целей на Западе нет. Есть гипотезы, которые лично мне кажутся неубедительными, и которые сводятся к тому, что Путиным движут иррациональные мотивы:
- врожденный империализм и инстинктивное стремление к неограниченному захвату территорий;
- эмоциональный реваншизм и бессознательное стремление к восстановлению СССР;
- инстинкт самосохранения и стремление к «перманентной войне» как методу сохранения личной власти (для тех, кто начитался Суркова на ночь).
Подражая Лопе де Вега, скажу, что «всё это и умно, и глупо». Умно, потому что все три обозначенных мотива действительно имеют место быть. Глупо, потому что надо различать мотивы и цели.
Иррациональность мотивов не всегда означает иррациональность целей. Как сон разума рождает чудовищ, так и чудовища иногда способны рождать вполне разумные стратегии.
По крайней мере, с большой долей уверенности можно сказать, к чему Россия сегодня не стремится (и в этом смысле Путин вполне искренен в своей «валдайской» речи, на этот раз произнесенной в Сочи).
- Россия не стремится к новым территориальным завоеваниям (исключение могут составлять отдельные стратегические точки, контроль над которыми влияет на систему глобальной безопасности);
- Россия не намерена восстанавливать СССР в том виде, в котором он существовал ранее, и брать на себя ответственность за судьбу бывших подконтрольных территорий;
- Россия не собирается вторгаться в Европу, даже Восточную и Центральную, не говоря о Западной.
Тем не менее, все это может при негативном сценарии произойти вопреки нынешним намерениям руководства России как побочный, хотя и нежелательный для него результат ее целенаправленных действий по достижению совершенно других, действительно значимых для Путина целей.
К сожалению, мы часто путаем ответы на два совершенно разных вопроса: к чему стремится Путин и как далеко он может зайти в своем стремлении?
Путин не стремится воевать с Европой, но не остановится перед войной в Европе, если это будет необходимо для выживания его режима.
Если одной метафорой описать то, что Путин хотел бы от Европы изначально (и, возможно, продолжает хотеть сейчас), то мы получим желание переподписать Хельсинские соглашения и переиздать режим «разрядки» применительно к новым обстоятельствам.
Наиболее значимыми для Путина элементами этого режима являются «невмешательство во внутренние дела» и принцип нерушимости границ, понимаемый им как раздел зон влияния.
Эти внешнеполитические максимы Путина далеко не оригинальны и воспроизводят «сквозные» установки российской внешней политики, существовавшие при всех режимах. На протяжении веков внешняя политика России формировалась исключительно под углом зрения обеспечения очень специфически понимаемой безопасности.
Что входило в минимальный русский «страховой полис», достаточно хорошо известно. Его константы не меняются последние пару столетий:
- Наличие нейтрально дружественного буфера (лимитрофа) вдоль своих границ, отделяющего Россию от конкурирующих цивилизационных (имперских) платформ на Западе, Юге и Востоке;
- Непосредственное участие в разрешении политических и экономических вопросов в Европе (и в Азии тоже, конечно), влияющих на экономическую и военную безопасность;
- Ограничение чрезмерного иностранного влияния как на внутреннем рынке, так и, разумеется, в политике.
Я не берусь обсуждать вопрос о том, насколько эти притязания России являются «легитимными» сами по себе, и тем более как они соотносятся с реальной практикой западных государств.
Например, с представлениями Великобритании о безопасности в рамках конфликта вокруг Фолклендских островов, или с представлениями Трампа о необходимости аннексии Гренландии и Панамского канала в рамках глобального противостояния с Китаем.
Но вряд ли можно утверждать, что они были уникальны и неожиданны. Подобные притязания Россия озвучивала, выражаясь метафорически, со времен «царя Гороха», и Европа ничего нового здесь не должна была для себя увидеть. Другое дело, что Европа на этот раз отнеслась к ним «по-другому».
Европе было не впервой идти на компромиссы с Россией. Париж рукоплескал польскому восстанию, но войну царизму никто так и не объявил. Восстания в Венгрии, Чехословакии и Польше были раздавлены советскими танками, но «мирного сосуществования» это не поколебало.
А сейчас все иначе, потому что то, что прощалось Юпитеру (сразу двум империям-близнецам – Российской и Советской), оказалось непростительным путинской империи.
Причин было несколько, назову две главные:
- К постсоветской империи сразу были предъявлены «завышенные ожидания» – быть как Европа (в значительной мере эти ожидания подогревались изнутри пришедшим к власти в России либерально-демократическим лагерем);
- Постсоветская Россия при этом изначально рассматривалась в Европе как failed state – «затухающая страна», проигравшая холодную войну и находящаяся в стадии «полураспада», место которой в Европе определяется именно этим проигрышем.
Очевидно, что два этих основания противоречат друг другу, но на практике они прекрасно взаимодополняли друг друга, подпирая собой концепцию «безграничного расширения» Европы не только за счет бывших стран «Варшавского блока», но и за счет вновь образованных на постсоветском пространстве государств.
И, кстати, если этого не происходило на восточной границе России, то не в силу самоограничения Запада, а в силу наличия там Китая со своим взглядом на то, что такое «геополитическое счастье».
Вопрос о будущем отношений России и Европы в долгосрочной перспективе сейчас на практике разделяется на два подвопроса:
- учитывая амбиции России произвести раздел сфер влияния и встречные амбиции Европы не идти на уступки России и никаких сфер не делить, возможен ли в принципе компромисс между ними, или все, что мы наблюдаем сегодня, лишь затянувшаяся увертюра к большой войне между Россией и НАТО, избежать которую невозможно, но можно оттянуть в надежде, что «либо шах сдохнет, либо ишак» (но все, конечно, ставят на шаха)?
- если компромисс все-таки возможен, то на каких приблизительно условиях и при каких обстоятельствах?
Однако прежде, чем отвечать на эти вопросы, необходимо обозначить, какие в принципе на сегодня существуют опции:
Бесконечная война. Горячая фаза войны в Украине продолжается. Гибридная война в тех или иных формах ведется на территории стран Балтии и Польши как минимум, а скорее всего, и по всей Европе.
Не договорившиеся между собой Китай и Америка все-таки «вписываются» в долгосрочные обязательства по поставкам недостающих вооружений и техники двойного назначения воюющим сторонам либо за их собственный счет (Китай - Россия), либо за счет средств Евросоюза (США – Украина).

Холодная война. У одной из сторон либо не выдерживают нервы, либо кончается ресурс, и она принимает условия перемирия, на которые сегодня категорически не согласна. При этом вторая сторона настолько истощена морально и физически, что развить успех не в состоянии (вариант русско-японской войны 1904-1905 годов).
Фронт замораживается по состоянию на момент соглашения или по другой оговоренной линии (что гораздо менее вероятно). Такие отношения могут стать калькой отношений Северной и Южной Кореи, возникших при аналогичных обстоятельствах.
С обоих концов продолжает нагнетаться истерия, идет гонка вооружений и активная милитаризация сознания – то есть повторяется «холодная война в горячей фазе».
При этих обстоятельствах возобновление военных действий в тех или иных формах после перегруппировки сил является наиболее ожидаемым вариантом развития событий. Дальнейшие изменения возможны только после смены режима в одной из воюющих стран.
«Мирное сосуществование». Приостановка военных действий происходит на тех же условиях, что и в сценарии «холодной войны», но, в отличие от сценария «холодной войны», стороны не ограничиваются вопросом о размежевании воюющих армий и всем, что непосредственно с этим связано, а идут дальше и пытаются отрегулировать систему коллективной безопасности в Европе в целом с учетом «реалий на земле» (что в том числе означает, что Европа частично идет навстречу Путину или его преемнику в их амбициях, так как изменение параметров этой существующей системы безопасности и было для Кремля стратегической целью войны, если отвлечься от их внутриполитических мотивов).
В этом случае появляется шанс пройти транзитный период до смены власти в России «на минималках» без рецидива горячей фазы войны. Но у этой возможности будет серьезная цена.
Сразу оговорюсь, что наиболее вероятными для меня являются первые два сценария, а наиболее желательным – третий. Тем не менее, у этого третьего варианта шансы на реализацию не являются нулевыми.
Залогом этому является то, что у такого сценария есть как исторический прецедент, так и название. Название это всем хорошо известно – «линия Паасикиви - Кекконена».
В современном политическом лексиконе за этим прецедентом закрепилось уничижительное прозвище «финляндизация», которую почему-то считают символом соглашательства и слабости.
На мой взгляд, это поверхностная оценка одного из самых успешных политических проектов в европейской послевоенной истории, который уникальным образом дважды подтвердил свою эффективность как «на входе» в 40-е годы прошлого столетия, так и «на выходе» в 90-е.
Сегодня термин «финляндизация» стал синонимом термина «коллаборационизм», что не только несправедливо, но и неверно по сути.
Дело в том, что политический курс Паасикиви-Кекконена – это больше про сохранение суверенитета и независимости в экстремально сложных условиях, чем про его потерю.
Оцените статью
1 2 3 4 5Читайте еще
Избранное